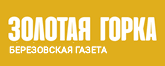Война
и послевоенные годы
в воспоминаниях Павлы Зыковой
и послевоенные годы
в воспоминаниях Павлы Зыковой
Наше суровое детство
Когда началась война, мне едва исполнилось 10 лет (родилась я 19 июня 1931 года). Родина моя Кировская область, Котельничского района, Шалеевский сельсовет, деревня Тюрики.
К началу войны наша семья состояла из 10 человек. Дедушка с бабушкой по 71 году, папа 41 год, маме 36 лет, брат 15 лет, сестра 12 лет, я и еще за мной мал, мала, меньше четверо. Сестренка наша родилась в декабре 1941 года, когда папа был уже на фронте, а в 1943 году забрали на войну и старшего брата, когда ему было всего 17 лет, едва ли окончил 9 класс школы.
Время коллективизации в деревне я смутно помню из-за своих юных лет. Только осталось в памяти, когда со двора в колхоз повели единственного молодого коня Кольку, он никак не шел, не подчиняясь насилию чужака, а когда его вывел дедушка, то он положил к нему на плечо свою голову и из глаз Кольки потекли слезы. Плакала лошадь, не только взрослые, но и мы, все дети ревели в один голос. Но и на конном дворе в колхозе он не хотел подчиняться никому, за что его там так били, что он недолго там протянул. Насилие еще никому не приносило хороших результатов, это против природы жизни. Но жизнь есть жизнь. Земледелец не мог жить без земли, он привык к порядку на земле. И с первых же лет коллективизации, когда всех жителей деревни силком втащили в колхозы. Нас мама, троих детей, затем подрастали и остальные, брала с собой в поле работать наравне со взрослыми с мая до октября ежегодно во время летних каникул. Весь сентябрь мы не учились, хотя числились в школе, ходили классом на уборку урожая зерновых, турнепса и в остальном уборка картофеля. В дождь, в снег мы выкапывали ее голыми ручонками, посиневшими от холода, а из носа лилось ручьем, и не было у нас ни платка, чтобы высморкаться, ни варежек, чтобы не так руки мерзли, ни одежонки, чтобы согреться, а тем более обуви. Ноги и руки заходились от холода, коченели, не гнулись, и чтобы хоть как-то согреться, мы не могли отдыхать, можно было работать и работать, двигаться все время.
А когда приходили домой, я пишу о себе в частности, то я за столом не могла сидеть прямо, так как так болела спина, что мне приходилось одной рукой опираться о лавку, поддерживая спину, стульев-то ведь не было у нас. А правая рука не могла держать ложку, она дрожала и половина содержимого в ложке оставалось дорожкой на столе. Ели-то ведь все 10 человек из одной миски большой, что стояла на середине стола. А что ели, суп из картофеля и овощей, да молоко синее, так как все молоко отстаивалось на сметану, которую потом взбивали на масло, а масло сдавалось государству. Ведь во время войны и после войны налоги были таковы, что бедному крестьянину ничего не оставалось для своей семьи, детей. Сдавали все: мясо, яйца, масло, шерсть. У кого и не было живности никакой, все равно сдавали, наши соседи объединялись и одну корову на две семьи оставляли, а другую сдавали государству. Вернее, не сдавали, а уводили ее силком со двора за неуплату налогов, и все это отбиралось даром, без каких-либо денег. А семьи у всех были большие, детей было самое меньшее 5 человек, да еще старики, которым, конечно, никакой пенсии не платили. За работу же в колхозе, за адский труд от восхода до заката солнца ничего не платили нам, кроме палочек-трудодней ничего не имели.
Иногда привозили на трудодни воз ржаной соломы, которую рубили, заваривали кипятком, кое-что добавляли в это месиво – скорлупки от картошки, овощей, лист крапивы, немножко сена и этим кормили единственную коровенку. У нас были еще десяток кур и овечка. После уплаты налогов нам оставались лишь рожки да ножки в буквальном смысле.
Жили мы всей семьей исключительно за счет нарезанной нам 40 соток земли, приусадебного участка. Там мы сеяли ячмень, садили картошку, садили овощи. Ячмень жали, размалывали на муку. А картошку все года, пока я жила дома, приходилось мне тереть на терке по целому ведру через день, чтобы испечь на тертой картошке с мукой соединяя так называемый хлеб. Конечно, хлебом это не назовешь, скорей лепешки или драники пустые. Бабушка называла это «тетерни».
Еще умудрялись мы с сестрой и бабушкой печь пирожки, чем только не начиняя их. В ход шло все: рябина, что стояла у нас перед окнами и полностью ее ребятишки, братья мои, собирали, вися, бывало, на самых тонких веточках. Собранную, тащили ее кисти на чердак, подстилали под нее ржаную солому, и так она сохранялась почти до нового урожая, пока всю не съедали ее.
Убирали и ягоды черемухи, их сушили, размалывали сухие ягоды или на мельнице, или на жерновах, что сделал нам дедушка. Мучку ее разводили молочком или сметанкой и тоже пекли шанежки. В пищу шло все: крапива, подорожник, лебеда, ягоды, грибы, пестики, корешки какие-то. Ягоды можжевельника, весной почки-ягодки хвойных, крупка сосны. Во многих семьях собирали по весне по полям гнилую картошку на бывшем картофельном поле, из нее тоже пекли лепешки. А еще пекли лепешки из куколя, отходов от семян льна. У нас в колхозе лен сеяли немало. За счет льна колхоз как-то иногда рассчитывался с государством, а колхозники иногда пользовались его отходами. Конечно, со льном очень много работы было, ведь это очень трудоемкая культура. Надо поле удобрить, вспахать, посеять, не раз его прополоть. Убирали его весь вручную, дергали из земли, вязали снопики, ставили на поле для просушки, затем свозили на ток и если просох, то вальками деревянными, сидя, его освобождали от семян. Семена провеивали на ручных веялках, чаще всего вночную.
Семена сдавали государству, а льнотресту или необработанную свозили государству, или женщины после замачивания расстилали эту соломку на поле, убирали ее (для) сушки на сушилках, его мяли, вручную опять же на каких-то мялках, барабанах, чесали, и через десятки процедур из него получалось льноволокно, которое тоже сдавали государству. Куколь мама не использовала для нашей кормежки, она была более-менее грамотная и знала, что ничего доброго из этого не выйдет. Как показала жизнь, правильно она и делала. Те семьи, где его использовали для еды стали умирать дети и старики из-за засорения желудка. Ведь он имеет очень острые мелкие части, колючки, которые буквально впивались в желудок и он переставал работать. Из нашей деревни умерли двое, в том числе и моя подружка одноклассница. Мы же садили очень много овощей. И часто вместо ужина, особенно зимой, у нас были одни сырые овощи: репа, калега, у нас ее звали «галанка», морковь. Съедали, бывало, по ведру за вечер. А ночью бегали во двор раздетые и босиком, чтобы опорожниться.
У нас была кадка, бочка без верха, так мы ее полную каждый год солили капусты, и все съедали, а огурцов солили по нескольку бочонков. Капусту хранили на морозе в клети, а огурцы в яме а иногда и в речке, в маленьком омуте, что у нас почти в огороде был, из него же мы и поливали все овощи. После работы в колхозе по 12 часов еще надо было нам, детям, полить все грядки в огороде своем. Таскать воду далековато было с реки, и чтобы быстрее полить, брали ведра большие, 15 литров. Идешь, а оно о землю задевает, и чтобы не расплескать воду, их еще приходилось приподнимать. Казалось, все внутри кости противились этой нагрузке, почему все сейчас и болит. Но выжили мы все, никто из детей не умер и даже в больнице никто не лежал, хотя, конечно, болели. Там ветрянка, краснуха, корь, простудные. Учились мы почти все из деревни, только по разному, кто сколько сумел окончить классов. Кто только начальные 4 класса, кто 5 или семилетку. Ребятишек забирали в ФЗО и часто они не возвращались уже оттуда, кто поспел по возрасту – на войну забирали.
А в колхозе мужиков не осталось и всю трудоемкую работу выполняли старики, кто был, выжил, и ребятишки 13-15 лет. Бывало, тащит такой пацан мешок в 50 кг, а то и больше весом, а самого и не видно из-за мешка. Как муравей, больше себя вес тянет. Досталось и нам, девчушкам. Я росла споро(?), вероятно с овощей да и гены видимо, были мои такие. Падала в обмороки часто, а все равно росла. И нас часто бригадир посылал в ночь после дневной работы, молотить зерно, веять зерно, сушить на сушилке. На сушилке мне нравилось, там ведь только зерно вороши да за огнем следи. А вот молотить было очень тяжело. Солому ли убирать от молотилки или зерно оттаскивать, мешки огромные и тяжелые и часто почему-то меня ставили снопы подавать в барабан. Снопы тяжелые, длинные, если ржаные. И как бог берег меня, что вместе со снопом не утащило меня самую в барабан, тем более, как я говорила уже, я часто падала в обморок. Ведь и молотилка была – «сложная» звалась, а наполовину была ручной. Ведь работали по ночам при лунном свете часто. А зерно веяли тоже только по ночам и только вручную веялку крутили. Зерно надо было высоко поднимать, засыпать в (гнорик?), а отгребать совком, в мешки загружать и оттаскивать их.
Дадут поспать часов до 9 утра после ночи, и опять иди на работу. Чего только не приходилось делать в колхозе летами в течение военных лет и послевоенных, примерно с 8 до 18 лет, пока я не окончила техникум, не направили меня работать по специальности. Не было у нас детства и отрочества. Все для фронта, все для победы, а потом восстановления страны. Как только учебный год заканчивался, бригадир назначал на работу каждого из детей, не спрашивая согласия мамы и наравне со взрослыми работали по 12 часов и более, даром работали. И я думала, так и надо. Ведь все работали. Все почти вручную, ведь основная тягловая сила это лошадь. Она, милая, полуголодная, часто умирала на дороге в поле, лесу. Через нашу деревню проходила дорога в районный город и трупы лошадей часто оставались лежать на дороге не доходя домой обратно. Все зерно отвозили для сдачи государству до зернышка, наши склады колхозные оставались на зиму пустые, а весной, чтобы провести сев зерновых, его снова надо было везти на склады и по полям. Ведь надо же было быть совсем идиотом, чтоб так делать. Это я сейчас понимаю, тогда об этом не думала. Раз надо, так надо. Ведь были еще детьми.
Пахали землю тоже только на лошадях: идет бедолага парнишка держась за ручки лемеха, а самого пахаря со стороны в сторону мотает, а лошаденка тоже понуря голову к земле, в три погибели согнувшись чуть плетется, спотыкаясь и падая на колени. Не может подняться иногда больная и голодная, и хлещи ее возжами, не хлещи, не может встать иногда. А пахарь сидит рядом и сам плачет вместе с нею. А норму вспаши, бригадир ругаться будет, если не вспашешь.
А наши матери, они подобно этим лошаденкам были. Измученные работой в колхозе, недоевшие, когда только спали? Заботы у детях, чем сегодня накормить, во что одеть, обуть,, чем накормить коровенку, овечку, кур. Сена не было, косить для своего подворья не разрешали нигде, и вот ночами наши мамы уходили в леса, по клочку искали траву около пней и кустарников. Кое-что накашивали и веревкой через плечо приносили домой, кому что удавалось наскрести. А утром опять на работу. Я не знала, когда наша мама спала и что ела. Мы уснем, она на ногах. Проснувшись, ее уже нет. За обедом она на ногах, нас кормила, подносила, сама когда ела – все на ногах была. Да еще и ребенок сосал грудь. Наша Маша, родившаяся в войну, с ней тоже были обмороки, но как-то выжила еще. А после войны, когда папа пришел с войны в 1946 году родился еще братик и тоже требовал себе внимания и заботы. Ну тут уже мы, кто был дома, все понемножку водились с ним. Не было одежды, не было пеленок, так он вывалялся в одной маминой юбке старой. Мы же передавали свою одежду и обувь от старшего младшим.
Когда один вырастал из пальтишки, другой одевал ее и это не считаясь с тем, кто ее носил, девчонка или парнишка. Штопали, садили заплатки и продолжали носить. Наша мама как-то еще умудрялась нас одевать немножко лучше остальных деревенских ребятишек. Сеяли лен, обрабатывали его, пройдя все операции, делала она льноволокно, пряла зимой длинными ночами, качая люльку одной ногой, а руками тянула свою бесконечную нить. Весной ткала новины, белила, стирала, сушила. Из новин были у нас полотенца для рук одно для всех и одно для всех для лица. Кто позднее всех умывался, тому полотенце доставалось уже сырым. Из льна были у нас матрацы, набитые рисовой соломой, тканые полоски вместо одеял и сеном набитые ухкие, можно сказать тоже льняные подушки. Из этих новин шили мы и нижнее белье (сорочки, нижние юбочки для тепла вместо штанишек), братцы носили штаны из льна, выкрашенные в разные цвета. Хуже было с обувью, только и тут мы находили выход. Как в школу начальную за 2 км так и в семилетнюю за 3 км мы ходили зимой в валенках, но как только морозы пройдут, шли босиком, а ботинки или тапочки через плечо несли. Перед школой была речка, так там ноги мыли и одевали ботинки. И так все года.
Однажды, уйдя в школу за 2 км, в начальную, мы с ребятами не могли попасть домой. Речка так разлилась в половодье, что затопила мостик через нее и дорогу, метров 50. Нас встретил один мужик, не знаю, чей он был отец или знакомый, просто сейчас уж забыла. Но он сказал нам: цепляйтесь за меня, кто за что сможет дотянуться и идите за мной. Самого маленького он взял на руки, и пошли мы за ним. А течение было такое сильное, что чуть с ног не сшибало, но все были целы, слава богу. Никого не унесло водой. После такой купели (вода доходила нам чуть ли не до подмышек) я заболела воспалением легких. Ведь было мне всего лет 9. Заболели еще двое из нас. Один мальчик умер, а я выжила как-то. Ведь в деревне какие врачи – да никаких. Один фельдшер на 15 км в округе. А после такой купели мне еще надо было идти с километр до дома. Лечила наша мама своими домашними средствами. Грудь натирала свиным жиром, пить давала квас кислый с луком, пропаренным в печи, масло коровье с медом и водкой горячее. Лежала дома на печи.
Хуже было моим сверстникам, что не имели валенок, обувью им служили лапти из лыка, носки иногда и не шерстяные и онучи, как у нас звали портянки. Одеждой им служили старые чьи-то телогрейки. Явно большие, подпоясанные опять же веревками. На голове подобие шапок, а иногда и какие-то тряпки. Дай бог царствия небесного нашей учительнице первой, помню, ее звали Антониной Михайловной, так она нас никого не отпускала домой, пока не проверит сама, как кто одет, обут. Кому-то шею закутает, кого покрепче пояском затянет. Таких бы побольше.
Мы жили в трудное время. Казалось бы, люди из-за непросветной нищеты должны ожесточиться, только сами себя спасать, но они оставались добрыми, отзывчивыми как во время войны, так и после нее. Наши матери делили и горе, и радость сообща. Придет ли похоронка на кого – плачут все и успокаивают друг друга.
Бывало, выгоняют утром рано коров в поле, и у кого чего произошло днем или ночью, рассказывают друг другу, у кого что болит или что с кем произошло, с детьми или со скотиной. Покручинятся вместе, посочувствуют, посоветуют, что лучше сделать, и легче станет на душе у всех.
Письма с фронта читали сообща, а последние известия приносила прямо в поле почтальон, она же читала газеты, пока женщины усаживались немножко передохнуть. Ведь газеты выписать было не на что, а радио вообще ни у кого не было. Помню, пришли мы в школу, нам учителя объявили: идите все домой и сообщите всем своим родным и соседям, что война окончилась. Вот тут было радости со слезами на глазах. Бежали мы домой почти бегом и где деревни на пути были, сообщали всем такую радостную весть. Кто плакал, кто смеялся, кто плясал. И долго еще эта война давала о себе знать. Голод, разруха, беженцы, калеки, госпитали. Они были всюду. Весь наш городок Котельнич наполняли госпитали.
Все школы, театры, мало-мальски пригодные помещения были заняты под госпиталь. К нам отправляли в город тяжелораненых и они у нас проводили довольно долгое время еще и после войны Мы, подростки, иногда ходили в свой городок пешком за 18-20 км с ягодами, грибами на рынок, чтобы продать и купить что-либо для школы – ручки, карандаши, чернила.
Поздно вечером сходишь иногда за грибами и ранешенько, до восхода солнца, мать разбудит, чтобы идти в город и в тот же день, иногда до обеда вернуться, чтобы снова идти на работу. Так вот идешь по городу, а из окон, если тепло стоит, торчат солдатики безногие, безрукие, на костылях и без них. И долго еще, лет, наверное, 10 за городом была гора рукотворная, состоящая из гипсовых рук, ног, белая гора, как айсберг, напоминающая всему живому, что это не должно повториться.
После стали возвращаться с войны наши защитники. Мне уже было 14-15-16 лет и иногда родители стали отпускать меня на вечеринки, которые стали организовывать они, молодые девчата, парни. А как некоторых из них изуродовала война. Наши парни ведь до войны работали на тракторах колесных, которые с первых же дней были мобилизованы вместе со своими тракторами на войну. Помню, как шли эти трактора через наши деревни ночью, с зажженными фарами, стоял гул такой, кажется, земля дрожала от их колонны. Жутко было. Уже думали, война к нам пришла, идут танки. Ребятишки проснулись и плакали, пока разобрались, что это не танки, и война к нам еще не пришла.
Так вот наши парни большинство служили в танковых частях, их лица, руки были обезображены огнем. Мне так было жаль их, без содрогания на некоторых из них невозможно было смотреть. А гимнастерки их были покрыты орденами и медалями, и когда они танцевали, медали звенели на разные голоса. А один наш парень из нашего колхоза был удостоен звания Героя Советского Союза. Впоследствии он женился на нашей учительнице. Из этой же деревни Патруши, откуда был родом наш герой, ушли на фронт пятеро сыновей одной из матерей. На всех пятерых она получила похоронки. Нашла в себе силы жить дальше, хотя была уже в годах. Собирала грибы в лесу, сушила, солила их, ходила пешком в город за 90 км и продавала их там, тем и жила. Да еще и помогала внукам, что остались без отцов.
Честь и хвала нашим матерям, что не согнулись перед теми бедами, невзгодами войны и разрухи. Это они своими руками растили хлеб, кормили солдатушек, защитников наших, а сами вместе со своими детьми и стариками оставались голодными. Ведь во время войны и после, кто нес хотя бы несколько зерен в кармане, рисковал быть посаженным в тюрьму на довольно длительный срок. 8 лет получила одна наша деревенская девушка, старшая в семье, у которой было 11 детей сестренок и братишек мал, мала, меньше только за то, что она принесла домой в фартуке немного ржи. Их мать вынуждена была посылать своих детей собирать милостыню, кто что подаст. Ведь в округе были такие же нищие, но делились люди последним. Вот и наши бабушка и мама не отказывали никому, кто просил милостыню, всех, кто приходил, садили за стол, если приходили во время обеда. Чем бог подает угощали от души. И не оставил бог нас без пищи. Выжили и даже наши мужики вернулись, хоть и израненные – инвалиды, но пришли живые. Бабушка нас, детей, ставила молиться, говоря, что доходчива до бога молитва ребят, молитесь, и вернется отец и брат ваши. Так и вышло. Сейчас оба уже умерли, папа и брат.
Папа, Зыков Григорий Павлович 29.01.1900 года рождения, всю войну прошел на Ленинградском фронте, там же воевал и брат, Леонид Григорьевич 26.07.1926 года рождения, но вскоре был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, остался жив. Оба были инвалидами, оба имели медали, ордена, но уже в мирной жизни воры украли их награды вместе с удостоверениями. Быть может, кто-то и сейчас пользуется их заслугами. Бог им судья, этим ворам, одно скажу, ничто не проходит бесследно. Бог воздает каждому по заслугам их.
Когда мы собираемся вместе со старшей сестрой своей Маргаритой 12.02.1929 года рождения, вспоминаем и дни войны. Как мы жили, работали в колхозе. Ведь мы не только работали, старались, но еще и соревновались как между собой, так и с соседями по полоске, если рвали лен или жали серпиками зерновые (рожь, овес, ячмень). Кто больше сделает, у кого больше полоса убранного, выжатого. Наверное, сейчас уж немногие знают, что такое серпик, как им жнут. Так это когда в правой руке серп, а левой забирают, сколько рука захватывает, например, растущей ржи и как можно ближе к земле ее срезают серпом. Каждую полную горсть ржаной соломы с колосьями складывают на приготовленный нами же поясок из соломы, и пока не будет кучка такой, похожей на сноп, все прибавляют горсть за горстью, затем туго стягиваем пояском из соломы сноп, которые впоследствии ставим в суслоны колосьями вверх. Одним из снопов закрываем верх, чтобы вода скатывалась, и суслон проветривался быстрее. Ведь после эти снопы с поля на лошадях, запряженных в телеги, свозили на тока и там их молотили, чтобы отделить зерно от соломы. Ну и далее по порядку обработки. У меня снопы получались некрасивые, наполовину выдернутые с корнем. Силы-то не хватало серпом отрезать всю солому от корня. Сноровка пришла со временем. Хотя было очень тяжело, спина болела, руки.
Когда стала повзрослее, возила сено, снопы с полей на лошадях. Уж очень тяжело было, когда возила навоз. Женщины вдвоем, втроем грузили его на телеги, а в поле-то я выгружала маленькими вилками одна. Казалось, я свой живот насквозь протыкаю вилками, когда сталкивала его с телеги. Несколько раз приходилось поднимать телегу, когда с курка она сдернется при крутом повороте. Ведь надо и лошадь держать, и телегу снова поднимать с земли, и курком в дырку угодить. Хорошо, если в поле кто-то есть еще, а если нет, то одной приходится надсажаться. Сейчас вот что ни проверю, все всегда опущение, все внутренности не на месте и все болит.
И еще, на Вас не пахали? Вы не были запряжены вместо лошади? На мне, конечно, не на одной мне, пахали. Не дай бог никому. Не знаю, маму не могу судить, но она нас запрягала, троих своих детей, кроме малышей совсем. Я оставалась за старшую дома, когда брат был на войне, а сестра училась в техникуме. Нас троих она и запрягала, чтобы вспахать огород, посеять и посадить в огороде. Ведь лошадь из колхоза не давали, сроки сева уходили, и чтобы было побыстрее, мать и пахала на нас, надеяться было не на кого. Вот и тянула лямку, что было в моих силах и более того, а потом впрягались в борону и боронили, таская за собой тяжеленную железную борону. Что было делать, если не посеять, хлеба не будет, есть нечего, а лопата была одна железная, ею только грядки копали. Как в кошмарном сне это было, было!
Со своего участка, огорода ячмень обмолачивали вручную, чаще всего по двое. Как тоже было тяжело, ведь били снопы палками с привязанными на веревку короткими тоже палками. Изо всех сил колотили, поворачивали снопы другой стороной и опять лупили по ним, пока все зерно не выбьем из снопов. Затем зерно собирали с утрамбованной земли и руками, метлой, граблями веяли на ветру, а солому на корм корове отдавали зимой.
Кроме картофеля терли на терке и редьку, чтобы испечь лепешку, подобие хлеба. Все терлось сырым. Редьку тертую затем ошпаривали кипятком в решете, горечь уходила вместе с водой, а из оставшегося жмыха, добавив немного мучки, пекли лепешки. Они были сытные, и мы их звали лепешки белые, а из картофеля – черные лепешки. Пальцы моих рук кровоточили, теркой протирала их, и тогда было больно держать ручку в школе, чтобы писать. Да ведь еще мама давала нам с сестрой задание напрясть ежедневно по веретену пряжи из льна. Крутить веретено тоже было больно из-за протертых пальцев на руках. Мамино задание надо было выполнять. Ослушаться ее и речи не было. Ее слово – закон. А домашнее задание выполняла на переменках. Ребята бегают, отдыхают, а я сидела и к уроку следующему готовилась. Когда уж надо было обязательно выполнить письменную работу дома, просила маму, чтобы разрешила кое-что из ее заданий оставить на завтра.
Все мы в общем-то учились неплохо, особенно братишки. Если в школу не пускали в отдельные дни, например, весной и осенью, когда надо было коров караулить. Ведь пасли своих коров мы на огороде с соседями из деревни, то бежали узнавать задание иногда в другую деревню, ведь училось-то нас из деревни не очень много, хотя деревня была (?), но надо было работать старшим, и даже 7 классов не все кончали. Ходить приходилось 3 км до школы пешком в любую погоду, в дождь ли, снег ли. Во время войны и после было много волков, и мы ходили с самодельными факелами, орали, когда шли лесом, да и полем тоже. Было страшно, но бог миловал, волки на нас ни разу не напали, хотя были случаи, когда и на взрослых, ехавших на лошади, гнались. Да, еще хочу что сказать. Лошадей, что умирали по дороге, женщины разрубали на куски и какое-то подобие мыла варили, что-то там добавляли. Оно было жидкое и черное, но этим мылом стирали белье и даже мылись в бане сами. Чтобы вода не была очень жесткой, делали из золы щелок, пропускали через льняную ткань заполненную золой горячую воду и этой водой мылись и стирали тоже белье.
В школе друг от друга заражались чесоткой, и чем ее лечили: в бане нам мама намазывала все тело дегтем, какое-то время сидели намазанными, затем натирались этой же сырой золой, что была в бане и смывали щелоком и этой дрянью, которая называлась мылом. А белье стиралось и на противне прожаривалось в печи (?), это спасало и от вшивости и от чесотки.
В общем, досталось и маме, Антонине Ивановне 1903 года рождения, и нам, ее детям. Все это называется жизнью. Еще хочется вспомнить о том, как мы заготовляли дрова на зиму.
Сколько-то кубометров дали нам на корню леса. Ушли в лес, спилили деревья, как сумели, обрубили сучья, распилили на тройники, а из леса-то как вытащить. Зимой, снега по пояс, лошадь не пройдет, а человек пройдет. Опять же привязали веревкой тройник и ну тащить его по снегу до дороги, и так с каждым тройником. Когда на дорогу все вытащили, обмеряли. Тогда и спустя какое-то время домой привезли на лошади. Опять же все братишки мои милые помогали. Конечно, под руководством мамы и ее силы.
А когда я закончила семилетку и поступила в Котельниче в техникум, то тоже немало пришлось всего пережить. Как только начался сентябрь, нас всех направили в лес дрова заготавливать для техникума. Меня поставили сучки обрубать, ну и со всей силы я острием топора по второй ноге ударила вместо сучка. Сначала кровь не шла. Я села на дерево, сняла бурку (тогда такая обувь существовала) и пальцем стала выколупывать остатки бурки с рассеченной раны. Ну тут скричали из таких же учащихся санитара, кое-как замотали рану и на грузовой машине, которая нас в лес привезла, отправили с шофером в город в поликлинику. Дорога была длинная, я сидела в кабине машины. Вскоре началось кровотечение, боль усилилась, и я не знала, куда ногу положить, чтоб не так шла кровь и меньше была боль. Шофер посоветовал ногу поднять и положить ее на открытую дверку бардачка. Долго ли, коротко ли, но приехали в поликлинику. Шофер взял меня на руки и притащил к врачу. Там обработали рану, зашили и отправили с той же машиной меня домой, в деревню, опять же за 20 км. Дорог тогда асфальтированных не было, одни ямы да колдобины, но я терпела. Наконец я дома, и опять же шофер перенес меня в избу. Так что я тоже побывала на войне и имела ранение, рубец до сих пор остался на ноге.
На следующий год на весь сентябрь нас отправили весь курс на уборку урожая в один из колхозов Кировской области. Сначала вязали снопы яровых зерновых, жнейка-лобогрейка с лошадиной тягой и (?) подрезала зерновые, а мы вязали снопы и ставили для просушки в суслоны. Потом копали картошку. Тоже один пахарь на лошади с лемехом выворачивал пласт с картофелем, мы, кто с палкой, кто просто голыми руками копались в земле, находили картошку, собирали в ведра и потом в мешки, которые грузили опять же на телегу, запряженную лошадью и везли ее в хранилище.
Спали мы все в нежилой избе без отопления, то есть без печки, прямо на соломе ржаной на полу вповалку, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ведь была осень.
Дожди и снег не освобождали нас от работы, надо было спешить убрать урожай. Кормили нас опять же, чем мог обеспечить колхоз. Варили кашу, иногда суп гороховый, картошку варили. Ни мяса, ни масла нам не давали, только иногда давали по стакану молока, даже чая не было, так, горячая водичка без сахара. Негде было сушить одежонку, какая у нас была. Ведь приехали в техникум учиться, а не работать в колхозе на уборке урожая. Все не местные, домой не отпускали съездить кое-что теплое привезти для работы. Болели часто, да так и работали иногда с температурой, кашлем и насморком. Я была и дома болезненнее других братьев и сестер, ну а в колхозе заболела. Осложнение дало на ноги. На одной из ног образовались нарывы, кровоточили, сильные боли были и меня опять же отправили с машиной грузовой в город в поликлинику. Долго лечилась дома, кое-как подлечили и уже когда из колхоза все вернулись в октябре, я еще долго ходила на перевязки в больницу. После обработки и перевязки так болела нога, что я летела бегом с одного края города, где была больница, на другой край города, где я снимала квартиру. Казалось, что боль при беге меньше бывает.
Это был 47, 48 год. Еще существовала карточная система на хлеб. Хлеба давали по 400 грамм, но это был не просто хлеб, а что-то черное, как кирпич, и 400 гр весил небольшой кусочек, как нынешний один срез с буханки. Я его никогда не доносила до квартиры, съедала по пути, а когда добиралась до квартиры, меня мучила изжога и боль в желудке. Утром уходила на уроки голодной, в обед в столовой техникума получала порцию картофельного пюре и стакан чая, тем и жила до очередной пайки хлеба. Иногда мама, когда уходила на воскресенье домой, давала молока синего литра 2-3, и это помогало мне как-то поддерживать себя. Но обмороки у меня продолжались, расти продолжала несмотря ни на что.
Обмороки из нашей группы были у трех девочек. Мы все сидели на задней парте и нас отпускали учителя с уроков без лишних вопросов.
Потом меня поселили в общежитие. Нас там было 52 человека, девчушек, в одной большой казарме, койки стояли тесно друг к другу. Был один большой стол, где приходилось по очереди готовить домашнее задание. Писали уже чернилами и нам стали продавать нормальные тетради.
Ведь все предметы изучали так: мы, пока учитель говорит, что успеешь, то и запишешь. Учебников не было, литературы никакой.
Но все старались учиться, никого у нас за весь период учебы в техникуме не отчислили и стипендию все получали, ведь это были единственные деньги. Все почти учащиеся были из таких же деревень, реже из городов, от родителей ждать помощи не приходилось. Просто денег не было у них почти ни у кого. Я не помню случая, чтобы кто-то из общежития нашего получал из дома перевод. Жили между собой дружно, и не было такого, чтобы кто-то на кого-то закричал, нагрубил. Никто не сквернословил, не курил (даже мальчишки), и, конечно, не выпивали. Одевались простенько, никто не завидовал друг другу, у нас ничего не пропадало, значит, никто не брал чужое. Воровства, как такового, у нас не было.
Молодость есть молодость, иногда бегали в городской сад весной, зимой в кино. Цены на билеты были дешевые, и можно было иногда позволить себе. У меня были двои тапочки, одни синие на резине с верхом из парусины, другие – белые. Тоже из парусины верх, низ – резина. Белые я начищала зубным порошком, а синие – синькой бельевой. Дали нам как-то по карточкам по 3 метра ситца. Я сшила себе кофту цветастую и юбку коричневую, в том и на занятия ходила, и на танцы.
Общежитие наше находилось недалеко от городского сада, где играл духовой оркестр. Тогда не было теперешней техники. Оркестр исполнял часто хорошую музыку, которая слышна была далеко. С тех пор я полюбила хорошую оркестровую, иногда классическую музыку, исполненную на духовых инструментах. Сейчас не услышишь ее ни по радио, ни по телевидению не увидишь, а жаль, ведь она человека настраивает только на хорошее, улучшает настроение, облагораживает душу, успокаивает нервы, придает лирическое настроение и хочется жить, творить, верить в хорошее будущее, любить и быть любимой даже в теперешние мои годы.
Так прошло мое детство, юность, и детство и юность моего поколения. По-разному складывалась жизнь и судьбы даже в нашей бывшей семье, но с уверенностью можно было сказать одно. Мое поколение воспитывалось в труде, уважении к старшему поколению, знали слово «надо». Честность во всем, дисциплина, добропорядочность, доверие. В книгах и кинофильмах призывали к добру, любви к Родине, патриотизму, любви к труду. Все это помогло нам одолеть такого врага, как фашизм, защитить Родину и самих себя от порабощения, не дать всех нас пропустить через крематорий. Честь и хвала оставшимся в живых защитникам Отечества нашего, царствия небесного погибшим за Родину. Не забывайте и тот вклад, что сделали мы и наши матери и деды, как во время войны, так и в послевоенное время. Кормили, как могли, сами оставаясь голодными. Не было воровства такого, как сейчас, не гибли люди от выстрелов из-за угла, не боялись выходить на улицу ни днем, ни ночью, боясь быть убитым из-за 100 рублей или просто так от руки наркомана и алкоголика или бандита-нелюдя, у которого ничего нет святого. Люди, одумайтесь, пока не поздно. Ведь все те несчастья, что порой обрушиваются на людей земли неспроста.
Господь посылает их нам, чтобы предупредить нас. Одумайтесь, эти катаклизмы на земле, как землетрясения, наводнения, ураганы, новые болезни, как то ВИЧ, гепатит бог допускает. Ведь эти болезни не случайны, они от разврата, наркомании. Мы без войны уничтожаем себя, наше молодое поколение гибнет, гибнут ничем неповинные дети, которые родились, а сколько еще неродившихся, загубленных в утробе матери своей. Ведь мы как последние палачи, которым нет прощения ни от людей, ни от бога, губим своих детей, живых существ. Ни одно животное существо животного мира не делает этого, только люди, считающие себя самыми здравомыслящими, позволяют себе это. А сколько детей, брошенных после рождения их от здоровых матерей, могущих воспитать и вырастить их, страдают от недостатка материнской ласки, воспитания отца, обманутых и обиженных взрослыми идут по жизни озлобленными и униженными и как сложится их жизнь. Не каждый человек может противостоять натиску более сильных, жадных, использующих все возможное, чтобы обогатиться за счет слабых или более порядочных, честных и работящих людей.
Почему более половины населения нашей страны сидят в квартирах с решетками на окнах, за железными несколькими дверями и даже это не спасает нас от нечистоплотных людей.
Раньше сидели в тюрьмах, за решетками воры, убийцы, бандиты разного рода, преступники. Сейчас все наоборот. Это мы смотрим на мир сквозь решетки, а бандиты, убийцы хозяйничают в стране, разъезжая на мерседесах. Покупают острова целые, стадионы, замки за границей. Что, они заработали такие деньги? Добрались до власти, разворовывают наши недра, леса, заводы целые. Кто их строил, заводы-то наши? Они? За те 10-15 лет, что воспользовавшись бесконтрольностью гос. чиновников сумели прибрать к рукам все, что было построено руками нашего и еще более старшего поколения. Ведь есть же предел какой-то человеческой алчности, наглости. Нельзя унести ничего в могилу с собой, там жизни нет. А жизнь сама по себе земная короткая, а детей и внуков там кто из алчных имеют. А если и есть у кого, то они от богатства своих отцов бесятся, наркоманят, спиваются, которые свой земной путь еще раньше своих отцов заканчивают бесславно.
Страшно становится жить нам, а еще страшнее за наших детей и внуков. Нет светлого будущего, уверенности в завтрашнем дне. Пишу, может, кто-то когда-то прочтет этот крик души моей и задумается о жизни своей, одуматься никогда не поздно. А бог простит наши грехи, если даже нам жить осталось всего ничего, а душа взывает о прощении. Делайте добро друг другу!
Простите меня, если кого обидела ненароком. Будьте счастливы.
Все это написала, не отходя от письменного стола, не ела, не пила, не могла оторваться. Если не я, то кто же? Ведь это уже было давно, история нашего поколения. Мало кто знает из молодых, а нас все становится меньше и меньше, и кто будет знать о жизни нашего поколения. Я написала только о детских и юношеских годах моей жизни, а сколько еще было всего, что пришлось прожить вместе с нашими людьми моего поколения. Это уже новая тема, о которой, вероятно, я никогда не напишу. Хотелось бы отослать это письмо в ЗОЖ, но оно такое длинное, и его, конечно, не напечатают, а больше куда, я не знаю. А ЗОЖ я читаю с его рождения и, вероятно, до своей могилы буду выписывать, так как в это издание пишут такие же простые люди и в основном пожилые и языком, понятным для меня. Обмениваются мыслями, советами, проблемами со здоровьем и лечением.
Если заинтересует кого-то мое откровение, правда жизни тех времен, я пока могу мыслить и писать, могу продолжить, как сложилась в частности моя дальнейшая жизнь. Несмотря на некоторые негативные стороны жизни в разные периоды жизни нашей страны, моей Родины. Я люблю свою Россию, ее народ, простой, мудрый, долготерпеливый, мужественный, патриотический, щедрый на доброту, любовь.
Отрицательно отношусь к тем, кто покидает свою Родину, только надеясь на большие деньги за границей и райскую жизнь там. Надо стараться жить здесь так, чтобы рай-то был на своей родине. Надеюсь, что молодежь здесь рано или поздно поймет это, ведь будущее в их руках! Надеюсь, что наши труды были не напрасны и оценены достойно.
Можно похвалиться?
Я за труды мои имею 8 наград (медалей) в том числе за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», из них 3 еще СССР, а 4 уже Российские.
К началу войны наша семья состояла из 10 человек. Дедушка с бабушкой по 71 году, папа 41 год, маме 36 лет, брат 15 лет, сестра 12 лет, я и еще за мной мал, мала, меньше четверо. Сестренка наша родилась в декабре 1941 года, когда папа был уже на фронте, а в 1943 году забрали на войну и старшего брата, когда ему было всего 17 лет, едва ли окончил 9 класс школы.
Время коллективизации в деревне я смутно помню из-за своих юных лет. Только осталось в памяти, когда со двора в колхоз повели единственного молодого коня Кольку, он никак не шел, не подчиняясь насилию чужака, а когда его вывел дедушка, то он положил к нему на плечо свою голову и из глаз Кольки потекли слезы. Плакала лошадь, не только взрослые, но и мы, все дети ревели в один голос. Но и на конном дворе в колхозе он не хотел подчиняться никому, за что его там так били, что он недолго там протянул. Насилие еще никому не приносило хороших результатов, это против природы жизни. Но жизнь есть жизнь. Земледелец не мог жить без земли, он привык к порядку на земле. И с первых же лет коллективизации, когда всех жителей деревни силком втащили в колхозы. Нас мама, троих детей, затем подрастали и остальные, брала с собой в поле работать наравне со взрослыми с мая до октября ежегодно во время летних каникул. Весь сентябрь мы не учились, хотя числились в школе, ходили классом на уборку урожая зерновых, турнепса и в остальном уборка картофеля. В дождь, в снег мы выкапывали ее голыми ручонками, посиневшими от холода, а из носа лилось ручьем, и не было у нас ни платка, чтобы высморкаться, ни варежек, чтобы не так руки мерзли, ни одежонки, чтобы согреться, а тем более обуви. Ноги и руки заходились от холода, коченели, не гнулись, и чтобы хоть как-то согреться, мы не могли отдыхать, можно было работать и работать, двигаться все время.
А когда приходили домой, я пишу о себе в частности, то я за столом не могла сидеть прямо, так как так болела спина, что мне приходилось одной рукой опираться о лавку, поддерживая спину, стульев-то ведь не было у нас. А правая рука не могла держать ложку, она дрожала и половина содержимого в ложке оставалось дорожкой на столе. Ели-то ведь все 10 человек из одной миски большой, что стояла на середине стола. А что ели, суп из картофеля и овощей, да молоко синее, так как все молоко отстаивалось на сметану, которую потом взбивали на масло, а масло сдавалось государству. Ведь во время войны и после войны налоги были таковы, что бедному крестьянину ничего не оставалось для своей семьи, детей. Сдавали все: мясо, яйца, масло, шерсть. У кого и не было живности никакой, все равно сдавали, наши соседи объединялись и одну корову на две семьи оставляли, а другую сдавали государству. Вернее, не сдавали, а уводили ее силком со двора за неуплату налогов, и все это отбиралось даром, без каких-либо денег. А семьи у всех были большие, детей было самое меньшее 5 человек, да еще старики, которым, конечно, никакой пенсии не платили. За работу же в колхозе, за адский труд от восхода до заката солнца ничего не платили нам, кроме палочек-трудодней ничего не имели.
Иногда привозили на трудодни воз ржаной соломы, которую рубили, заваривали кипятком, кое-что добавляли в это месиво – скорлупки от картошки, овощей, лист крапивы, немножко сена и этим кормили единственную коровенку. У нас были еще десяток кур и овечка. После уплаты налогов нам оставались лишь рожки да ножки в буквальном смысле.
Жили мы всей семьей исключительно за счет нарезанной нам 40 соток земли, приусадебного участка. Там мы сеяли ячмень, садили картошку, садили овощи. Ячмень жали, размалывали на муку. А картошку все года, пока я жила дома, приходилось мне тереть на терке по целому ведру через день, чтобы испечь на тертой картошке с мукой соединяя так называемый хлеб. Конечно, хлебом это не назовешь, скорей лепешки или драники пустые. Бабушка называла это «тетерни».
Еще умудрялись мы с сестрой и бабушкой печь пирожки, чем только не начиняя их. В ход шло все: рябина, что стояла у нас перед окнами и полностью ее ребятишки, братья мои, собирали, вися, бывало, на самых тонких веточках. Собранную, тащили ее кисти на чердак, подстилали под нее ржаную солому, и так она сохранялась почти до нового урожая, пока всю не съедали ее.
Убирали и ягоды черемухи, их сушили, размалывали сухие ягоды или на мельнице, или на жерновах, что сделал нам дедушка. Мучку ее разводили молочком или сметанкой и тоже пекли шанежки. В пищу шло все: крапива, подорожник, лебеда, ягоды, грибы, пестики, корешки какие-то. Ягоды можжевельника, весной почки-ягодки хвойных, крупка сосны. Во многих семьях собирали по весне по полям гнилую картошку на бывшем картофельном поле, из нее тоже пекли лепешки. А еще пекли лепешки из куколя, отходов от семян льна. У нас в колхозе лен сеяли немало. За счет льна колхоз как-то иногда рассчитывался с государством, а колхозники иногда пользовались его отходами. Конечно, со льном очень много работы было, ведь это очень трудоемкая культура. Надо поле удобрить, вспахать, посеять, не раз его прополоть. Убирали его весь вручную, дергали из земли, вязали снопики, ставили на поле для просушки, затем свозили на ток и если просох, то вальками деревянными, сидя, его освобождали от семян. Семена провеивали на ручных веялках, чаще всего вночную.
Семена сдавали государству, а льнотресту или необработанную свозили государству, или женщины после замачивания расстилали эту соломку на поле, убирали ее (для) сушки на сушилках, его мяли, вручную опять же на каких-то мялках, барабанах, чесали, и через десятки процедур из него получалось льноволокно, которое тоже сдавали государству. Куколь мама не использовала для нашей кормежки, она была более-менее грамотная и знала, что ничего доброго из этого не выйдет. Как показала жизнь, правильно она и делала. Те семьи, где его использовали для еды стали умирать дети и старики из-за засорения желудка. Ведь он имеет очень острые мелкие части, колючки, которые буквально впивались в желудок и он переставал работать. Из нашей деревни умерли двое, в том числе и моя подружка одноклассница. Мы же садили очень много овощей. И часто вместо ужина, особенно зимой, у нас были одни сырые овощи: репа, калега, у нас ее звали «галанка», морковь. Съедали, бывало, по ведру за вечер. А ночью бегали во двор раздетые и босиком, чтобы опорожниться.
У нас была кадка, бочка без верха, так мы ее полную каждый год солили капусты, и все съедали, а огурцов солили по нескольку бочонков. Капусту хранили на морозе в клети, а огурцы в яме а иногда и в речке, в маленьком омуте, что у нас почти в огороде был, из него же мы и поливали все овощи. После работы в колхозе по 12 часов еще надо было нам, детям, полить все грядки в огороде своем. Таскать воду далековато было с реки, и чтобы быстрее полить, брали ведра большие, 15 литров. Идешь, а оно о землю задевает, и чтобы не расплескать воду, их еще приходилось приподнимать. Казалось, все внутри кости противились этой нагрузке, почему все сейчас и болит. Но выжили мы все, никто из детей не умер и даже в больнице никто не лежал, хотя, конечно, болели. Там ветрянка, краснуха, корь, простудные. Учились мы почти все из деревни, только по разному, кто сколько сумел окончить классов. Кто только начальные 4 класса, кто 5 или семилетку. Ребятишек забирали в ФЗО и часто они не возвращались уже оттуда, кто поспел по возрасту – на войну забирали.
А в колхозе мужиков не осталось и всю трудоемкую работу выполняли старики, кто был, выжил, и ребятишки 13-15 лет. Бывало, тащит такой пацан мешок в 50 кг, а то и больше весом, а самого и не видно из-за мешка. Как муравей, больше себя вес тянет. Досталось и нам, девчушкам. Я росла споро(?), вероятно с овощей да и гены видимо, были мои такие. Падала в обмороки часто, а все равно росла. И нас часто бригадир посылал в ночь после дневной работы, молотить зерно, веять зерно, сушить на сушилке. На сушилке мне нравилось, там ведь только зерно вороши да за огнем следи. А вот молотить было очень тяжело. Солому ли убирать от молотилки или зерно оттаскивать, мешки огромные и тяжелые и часто почему-то меня ставили снопы подавать в барабан. Снопы тяжелые, длинные, если ржаные. И как бог берег меня, что вместе со снопом не утащило меня самую в барабан, тем более, как я говорила уже, я часто падала в обморок. Ведь и молотилка была – «сложная» звалась, а наполовину была ручной. Ведь работали по ночам при лунном свете часто. А зерно веяли тоже только по ночам и только вручную веялку крутили. Зерно надо было высоко поднимать, засыпать в (гнорик?), а отгребать совком, в мешки загружать и оттаскивать их.
Дадут поспать часов до 9 утра после ночи, и опять иди на работу. Чего только не приходилось делать в колхозе летами в течение военных лет и послевоенных, примерно с 8 до 18 лет, пока я не окончила техникум, не направили меня работать по специальности. Не было у нас детства и отрочества. Все для фронта, все для победы, а потом восстановления страны. Как только учебный год заканчивался, бригадир назначал на работу каждого из детей, не спрашивая согласия мамы и наравне со взрослыми работали по 12 часов и более, даром работали. И я думала, так и надо. Ведь все работали. Все почти вручную, ведь основная тягловая сила это лошадь. Она, милая, полуголодная, часто умирала на дороге в поле, лесу. Через нашу деревню проходила дорога в районный город и трупы лошадей часто оставались лежать на дороге не доходя домой обратно. Все зерно отвозили для сдачи государству до зернышка, наши склады колхозные оставались на зиму пустые, а весной, чтобы провести сев зерновых, его снова надо было везти на склады и по полям. Ведь надо же было быть совсем идиотом, чтоб так делать. Это я сейчас понимаю, тогда об этом не думала. Раз надо, так надо. Ведь были еще детьми.
Пахали землю тоже только на лошадях: идет бедолага парнишка держась за ручки лемеха, а самого пахаря со стороны в сторону мотает, а лошаденка тоже понуря голову к земле, в три погибели согнувшись чуть плетется, спотыкаясь и падая на колени. Не может подняться иногда больная и голодная, и хлещи ее возжами, не хлещи, не может встать иногда. А пахарь сидит рядом и сам плачет вместе с нею. А норму вспаши, бригадир ругаться будет, если не вспашешь.
А наши матери, они подобно этим лошаденкам были. Измученные работой в колхозе, недоевшие, когда только спали? Заботы у детях, чем сегодня накормить, во что одеть, обуть,, чем накормить коровенку, овечку, кур. Сена не было, косить для своего подворья не разрешали нигде, и вот ночами наши мамы уходили в леса, по клочку искали траву около пней и кустарников. Кое-что накашивали и веревкой через плечо приносили домой, кому что удавалось наскрести. А утром опять на работу. Я не знала, когда наша мама спала и что ела. Мы уснем, она на ногах. Проснувшись, ее уже нет. За обедом она на ногах, нас кормила, подносила, сама когда ела – все на ногах была. Да еще и ребенок сосал грудь. Наша Маша, родившаяся в войну, с ней тоже были обмороки, но как-то выжила еще. А после войны, когда папа пришел с войны в 1946 году родился еще братик и тоже требовал себе внимания и заботы. Ну тут уже мы, кто был дома, все понемножку водились с ним. Не было одежды, не было пеленок, так он вывалялся в одной маминой юбке старой. Мы же передавали свою одежду и обувь от старшего младшим.
Когда один вырастал из пальтишки, другой одевал ее и это не считаясь с тем, кто ее носил, девчонка или парнишка. Штопали, садили заплатки и продолжали носить. Наша мама как-то еще умудрялась нас одевать немножко лучше остальных деревенских ребятишек. Сеяли лен, обрабатывали его, пройдя все операции, делала она льноволокно, пряла зимой длинными ночами, качая люльку одной ногой, а руками тянула свою бесконечную нить. Весной ткала новины, белила, стирала, сушила. Из новин были у нас полотенца для рук одно для всех и одно для всех для лица. Кто позднее всех умывался, тому полотенце доставалось уже сырым. Из льна были у нас матрацы, набитые рисовой соломой, тканые полоски вместо одеял и сеном набитые ухкие, можно сказать тоже льняные подушки. Из этих новин шили мы и нижнее белье (сорочки, нижние юбочки для тепла вместо штанишек), братцы носили штаны из льна, выкрашенные в разные цвета. Хуже было с обувью, только и тут мы находили выход. Как в школу начальную за 2 км так и в семилетнюю за 3 км мы ходили зимой в валенках, но как только морозы пройдут, шли босиком, а ботинки или тапочки через плечо несли. Перед школой была речка, так там ноги мыли и одевали ботинки. И так все года.
Однажды, уйдя в школу за 2 км, в начальную, мы с ребятами не могли попасть домой. Речка так разлилась в половодье, что затопила мостик через нее и дорогу, метров 50. Нас встретил один мужик, не знаю, чей он был отец или знакомый, просто сейчас уж забыла. Но он сказал нам: цепляйтесь за меня, кто за что сможет дотянуться и идите за мной. Самого маленького он взял на руки, и пошли мы за ним. А течение было такое сильное, что чуть с ног не сшибало, но все были целы, слава богу. Никого не унесло водой. После такой купели (вода доходила нам чуть ли не до подмышек) я заболела воспалением легких. Ведь было мне всего лет 9. Заболели еще двое из нас. Один мальчик умер, а я выжила как-то. Ведь в деревне какие врачи – да никаких. Один фельдшер на 15 км в округе. А после такой купели мне еще надо было идти с километр до дома. Лечила наша мама своими домашними средствами. Грудь натирала свиным жиром, пить давала квас кислый с луком, пропаренным в печи, масло коровье с медом и водкой горячее. Лежала дома на печи.
Хуже было моим сверстникам, что не имели валенок, обувью им служили лапти из лыка, носки иногда и не шерстяные и онучи, как у нас звали портянки. Одеждой им служили старые чьи-то телогрейки. Явно большие, подпоясанные опять же веревками. На голове подобие шапок, а иногда и какие-то тряпки. Дай бог царствия небесного нашей учительнице первой, помню, ее звали Антониной Михайловной, так она нас никого не отпускала домой, пока не проверит сама, как кто одет, обут. Кому-то шею закутает, кого покрепче пояском затянет. Таких бы побольше.
Мы жили в трудное время. Казалось бы, люди из-за непросветной нищеты должны ожесточиться, только сами себя спасать, но они оставались добрыми, отзывчивыми как во время войны, так и после нее. Наши матери делили и горе, и радость сообща. Придет ли похоронка на кого – плачут все и успокаивают друг друга.
Бывало, выгоняют утром рано коров в поле, и у кого чего произошло днем или ночью, рассказывают друг другу, у кого что болит или что с кем произошло, с детьми или со скотиной. Покручинятся вместе, посочувствуют, посоветуют, что лучше сделать, и легче станет на душе у всех.
Письма с фронта читали сообща, а последние известия приносила прямо в поле почтальон, она же читала газеты, пока женщины усаживались немножко передохнуть. Ведь газеты выписать было не на что, а радио вообще ни у кого не было. Помню, пришли мы в школу, нам учителя объявили: идите все домой и сообщите всем своим родным и соседям, что война окончилась. Вот тут было радости со слезами на глазах. Бежали мы домой почти бегом и где деревни на пути были, сообщали всем такую радостную весть. Кто плакал, кто смеялся, кто плясал. И долго еще эта война давала о себе знать. Голод, разруха, беженцы, калеки, госпитали. Они были всюду. Весь наш городок Котельнич наполняли госпитали.
Все школы, театры, мало-мальски пригодные помещения были заняты под госпиталь. К нам отправляли в город тяжелораненых и они у нас проводили довольно долгое время еще и после войны Мы, подростки, иногда ходили в свой городок пешком за 18-20 км с ягодами, грибами на рынок, чтобы продать и купить что-либо для школы – ручки, карандаши, чернила.
Поздно вечером сходишь иногда за грибами и ранешенько, до восхода солнца, мать разбудит, чтобы идти в город и в тот же день, иногда до обеда вернуться, чтобы снова идти на работу. Так вот идешь по городу, а из окон, если тепло стоит, торчат солдатики безногие, безрукие, на костылях и без них. И долго еще, лет, наверное, 10 за городом была гора рукотворная, состоящая из гипсовых рук, ног, белая гора, как айсберг, напоминающая всему живому, что это не должно повториться.
После стали возвращаться с войны наши защитники. Мне уже было 14-15-16 лет и иногда родители стали отпускать меня на вечеринки, которые стали организовывать они, молодые девчата, парни. А как некоторых из них изуродовала война. Наши парни ведь до войны работали на тракторах колесных, которые с первых же дней были мобилизованы вместе со своими тракторами на войну. Помню, как шли эти трактора через наши деревни ночью, с зажженными фарами, стоял гул такой, кажется, земля дрожала от их колонны. Жутко было. Уже думали, война к нам пришла, идут танки. Ребятишки проснулись и плакали, пока разобрались, что это не танки, и война к нам еще не пришла.
Так вот наши парни большинство служили в танковых частях, их лица, руки были обезображены огнем. Мне так было жаль их, без содрогания на некоторых из них невозможно было смотреть. А гимнастерки их были покрыты орденами и медалями, и когда они танцевали, медали звенели на разные голоса. А один наш парень из нашего колхоза был удостоен звания Героя Советского Союза. Впоследствии он женился на нашей учительнице. Из этой же деревни Патруши, откуда был родом наш герой, ушли на фронт пятеро сыновей одной из матерей. На всех пятерых она получила похоронки. Нашла в себе силы жить дальше, хотя была уже в годах. Собирала грибы в лесу, сушила, солила их, ходила пешком в город за 90 км и продавала их там, тем и жила. Да еще и помогала внукам, что остались без отцов.
Честь и хвала нашим матерям, что не согнулись перед теми бедами, невзгодами войны и разрухи. Это они своими руками растили хлеб, кормили солдатушек, защитников наших, а сами вместе со своими детьми и стариками оставались голодными. Ведь во время войны и после, кто нес хотя бы несколько зерен в кармане, рисковал быть посаженным в тюрьму на довольно длительный срок. 8 лет получила одна наша деревенская девушка, старшая в семье, у которой было 11 детей сестренок и братишек мал, мала, меньше только за то, что она принесла домой в фартуке немного ржи. Их мать вынуждена была посылать своих детей собирать милостыню, кто что подаст. Ведь в округе были такие же нищие, но делились люди последним. Вот и наши бабушка и мама не отказывали никому, кто просил милостыню, всех, кто приходил, садили за стол, если приходили во время обеда. Чем бог подает угощали от души. И не оставил бог нас без пищи. Выжили и даже наши мужики вернулись, хоть и израненные – инвалиды, но пришли живые. Бабушка нас, детей, ставила молиться, говоря, что доходчива до бога молитва ребят, молитесь, и вернется отец и брат ваши. Так и вышло. Сейчас оба уже умерли, папа и брат.
Папа, Зыков Григорий Павлович 29.01.1900 года рождения, всю войну прошел на Ленинградском фронте, там же воевал и брат, Леонид Григорьевич 26.07.1926 года рождения, но вскоре был тяжело ранен, долго лежал в госпитале, остался жив. Оба были инвалидами, оба имели медали, ордена, но уже в мирной жизни воры украли их награды вместе с удостоверениями. Быть может, кто-то и сейчас пользуется их заслугами. Бог им судья, этим ворам, одно скажу, ничто не проходит бесследно. Бог воздает каждому по заслугам их.
Когда мы собираемся вместе со старшей сестрой своей Маргаритой 12.02.1929 года рождения, вспоминаем и дни войны. Как мы жили, работали в колхозе. Ведь мы не только работали, старались, но еще и соревновались как между собой, так и с соседями по полоске, если рвали лен или жали серпиками зерновые (рожь, овес, ячмень). Кто больше сделает, у кого больше полоса убранного, выжатого. Наверное, сейчас уж немногие знают, что такое серпик, как им жнут. Так это когда в правой руке серп, а левой забирают, сколько рука захватывает, например, растущей ржи и как можно ближе к земле ее срезают серпом. Каждую полную горсть ржаной соломы с колосьями складывают на приготовленный нами же поясок из соломы, и пока не будет кучка такой, похожей на сноп, все прибавляют горсть за горстью, затем туго стягиваем пояском из соломы сноп, которые впоследствии ставим в суслоны колосьями вверх. Одним из снопов закрываем верх, чтобы вода скатывалась, и суслон проветривался быстрее. Ведь после эти снопы с поля на лошадях, запряженных в телеги, свозили на тока и там их молотили, чтобы отделить зерно от соломы. Ну и далее по порядку обработки. У меня снопы получались некрасивые, наполовину выдернутые с корнем. Силы-то не хватало серпом отрезать всю солому от корня. Сноровка пришла со временем. Хотя было очень тяжело, спина болела, руки.
Когда стала повзрослее, возила сено, снопы с полей на лошадях. Уж очень тяжело было, когда возила навоз. Женщины вдвоем, втроем грузили его на телеги, а в поле-то я выгружала маленькими вилками одна. Казалось, я свой живот насквозь протыкаю вилками, когда сталкивала его с телеги. Несколько раз приходилось поднимать телегу, когда с курка она сдернется при крутом повороте. Ведь надо и лошадь держать, и телегу снова поднимать с земли, и курком в дырку угодить. Хорошо, если в поле кто-то есть еще, а если нет, то одной приходится надсажаться. Сейчас вот что ни проверю, все всегда опущение, все внутренности не на месте и все болит.
И еще, на Вас не пахали? Вы не были запряжены вместо лошади? На мне, конечно, не на одной мне, пахали. Не дай бог никому. Не знаю, маму не могу судить, но она нас запрягала, троих своих детей, кроме малышей совсем. Я оставалась за старшую дома, когда брат был на войне, а сестра училась в техникуме. Нас троих она и запрягала, чтобы вспахать огород, посеять и посадить в огороде. Ведь лошадь из колхоза не давали, сроки сева уходили, и чтобы было побыстрее, мать и пахала на нас, надеяться было не на кого. Вот и тянула лямку, что было в моих силах и более того, а потом впрягались в борону и боронили, таская за собой тяжеленную железную борону. Что было делать, если не посеять, хлеба не будет, есть нечего, а лопата была одна железная, ею только грядки копали. Как в кошмарном сне это было, было!
Со своего участка, огорода ячмень обмолачивали вручную, чаще всего по двое. Как тоже было тяжело, ведь били снопы палками с привязанными на веревку короткими тоже палками. Изо всех сил колотили, поворачивали снопы другой стороной и опять лупили по ним, пока все зерно не выбьем из снопов. Затем зерно собирали с утрамбованной земли и руками, метлой, граблями веяли на ветру, а солому на корм корове отдавали зимой.
Кроме картофеля терли на терке и редьку, чтобы испечь лепешку, подобие хлеба. Все терлось сырым. Редьку тертую затем ошпаривали кипятком в решете, горечь уходила вместе с водой, а из оставшегося жмыха, добавив немного мучки, пекли лепешки. Они были сытные, и мы их звали лепешки белые, а из картофеля – черные лепешки. Пальцы моих рук кровоточили, теркой протирала их, и тогда было больно держать ручку в школе, чтобы писать. Да ведь еще мама давала нам с сестрой задание напрясть ежедневно по веретену пряжи из льна. Крутить веретено тоже было больно из-за протертых пальцев на руках. Мамино задание надо было выполнять. Ослушаться ее и речи не было. Ее слово – закон. А домашнее задание выполняла на переменках. Ребята бегают, отдыхают, а я сидела и к уроку следующему готовилась. Когда уж надо было обязательно выполнить письменную работу дома, просила маму, чтобы разрешила кое-что из ее заданий оставить на завтра.
Все мы в общем-то учились неплохо, особенно братишки. Если в школу не пускали в отдельные дни, например, весной и осенью, когда надо было коров караулить. Ведь пасли своих коров мы на огороде с соседями из деревни, то бежали узнавать задание иногда в другую деревню, ведь училось-то нас из деревни не очень много, хотя деревня была (?), но надо было работать старшим, и даже 7 классов не все кончали. Ходить приходилось 3 км до школы пешком в любую погоду, в дождь ли, снег ли. Во время войны и после было много волков, и мы ходили с самодельными факелами, орали, когда шли лесом, да и полем тоже. Было страшно, но бог миловал, волки на нас ни разу не напали, хотя были случаи, когда и на взрослых, ехавших на лошади, гнались. Да, еще хочу что сказать. Лошадей, что умирали по дороге, женщины разрубали на куски и какое-то подобие мыла варили, что-то там добавляли. Оно было жидкое и черное, но этим мылом стирали белье и даже мылись в бане сами. Чтобы вода не была очень жесткой, делали из золы щелок, пропускали через льняную ткань заполненную золой горячую воду и этой водой мылись и стирали тоже белье.
В школе друг от друга заражались чесоткой, и чем ее лечили: в бане нам мама намазывала все тело дегтем, какое-то время сидели намазанными, затем натирались этой же сырой золой, что была в бане и смывали щелоком и этой дрянью, которая называлась мылом. А белье стиралось и на противне прожаривалось в печи (?), это спасало и от вшивости и от чесотки.
В общем, досталось и маме, Антонине Ивановне 1903 года рождения, и нам, ее детям. Все это называется жизнью. Еще хочется вспомнить о том, как мы заготовляли дрова на зиму.
Сколько-то кубометров дали нам на корню леса. Ушли в лес, спилили деревья, как сумели, обрубили сучья, распилили на тройники, а из леса-то как вытащить. Зимой, снега по пояс, лошадь не пройдет, а человек пройдет. Опять же привязали веревкой тройник и ну тащить его по снегу до дороги, и так с каждым тройником. Когда на дорогу все вытащили, обмеряли. Тогда и спустя какое-то время домой привезли на лошади. Опять же все братишки мои милые помогали. Конечно, под руководством мамы и ее силы.
А когда я закончила семилетку и поступила в Котельниче в техникум, то тоже немало пришлось всего пережить. Как только начался сентябрь, нас всех направили в лес дрова заготавливать для техникума. Меня поставили сучки обрубать, ну и со всей силы я острием топора по второй ноге ударила вместо сучка. Сначала кровь не шла. Я села на дерево, сняла бурку (тогда такая обувь существовала) и пальцем стала выколупывать остатки бурки с рассеченной раны. Ну тут скричали из таких же учащихся санитара, кое-как замотали рану и на грузовой машине, которая нас в лес привезла, отправили с шофером в город в поликлинику. Дорога была длинная, я сидела в кабине машины. Вскоре началось кровотечение, боль усилилась, и я не знала, куда ногу положить, чтоб не так шла кровь и меньше была боль. Шофер посоветовал ногу поднять и положить ее на открытую дверку бардачка. Долго ли, коротко ли, но приехали в поликлинику. Шофер взял меня на руки и притащил к врачу. Там обработали рану, зашили и отправили с той же машиной меня домой, в деревню, опять же за 20 км. Дорог тогда асфальтированных не было, одни ямы да колдобины, но я терпела. Наконец я дома, и опять же шофер перенес меня в избу. Так что я тоже побывала на войне и имела ранение, рубец до сих пор остался на ноге.
На следующий год на весь сентябрь нас отправили весь курс на уборку урожая в один из колхозов Кировской области. Сначала вязали снопы яровых зерновых, жнейка-лобогрейка с лошадиной тягой и (?) подрезала зерновые, а мы вязали снопы и ставили для просушки в суслоны. Потом копали картошку. Тоже один пахарь на лошади с лемехом выворачивал пласт с картофелем, мы, кто с палкой, кто просто голыми руками копались в земле, находили картошку, собирали в ведра и потом в мешки, которые грузили опять же на телегу, запряженную лошадью и везли ее в хранилище.
Спали мы все в нежилой избе без отопления, то есть без печки, прямо на соломе ржаной на полу вповалку, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ведь была осень.
Дожди и снег не освобождали нас от работы, надо было спешить убрать урожай. Кормили нас опять же, чем мог обеспечить колхоз. Варили кашу, иногда суп гороховый, картошку варили. Ни мяса, ни масла нам не давали, только иногда давали по стакану молока, даже чая не было, так, горячая водичка без сахара. Негде было сушить одежонку, какая у нас была. Ведь приехали в техникум учиться, а не работать в колхозе на уборке урожая. Все не местные, домой не отпускали съездить кое-что теплое привезти для работы. Болели часто, да так и работали иногда с температурой, кашлем и насморком. Я была и дома болезненнее других братьев и сестер, ну а в колхозе заболела. Осложнение дало на ноги. На одной из ног образовались нарывы, кровоточили, сильные боли были и меня опять же отправили с машиной грузовой в город в поликлинику. Долго лечилась дома, кое-как подлечили и уже когда из колхоза все вернулись в октябре, я еще долго ходила на перевязки в больницу. После обработки и перевязки так болела нога, что я летела бегом с одного края города, где была больница, на другой край города, где я снимала квартиру. Казалось, что боль при беге меньше бывает.
Это был 47, 48 год. Еще существовала карточная система на хлеб. Хлеба давали по 400 грамм, но это был не просто хлеб, а что-то черное, как кирпич, и 400 гр весил небольшой кусочек, как нынешний один срез с буханки. Я его никогда не доносила до квартиры, съедала по пути, а когда добиралась до квартиры, меня мучила изжога и боль в желудке. Утром уходила на уроки голодной, в обед в столовой техникума получала порцию картофельного пюре и стакан чая, тем и жила до очередной пайки хлеба. Иногда мама, когда уходила на воскресенье домой, давала молока синего литра 2-3, и это помогало мне как-то поддерживать себя. Но обмороки у меня продолжались, расти продолжала несмотря ни на что.
Обмороки из нашей группы были у трех девочек. Мы все сидели на задней парте и нас отпускали учителя с уроков без лишних вопросов.
Потом меня поселили в общежитие. Нас там было 52 человека, девчушек, в одной большой казарме, койки стояли тесно друг к другу. Был один большой стол, где приходилось по очереди готовить домашнее задание. Писали уже чернилами и нам стали продавать нормальные тетради.
Ведь все предметы изучали так: мы, пока учитель говорит, что успеешь, то и запишешь. Учебников не было, литературы никакой.
Но все старались учиться, никого у нас за весь период учебы в техникуме не отчислили и стипендию все получали, ведь это были единственные деньги. Все почти учащиеся были из таких же деревень, реже из городов, от родителей ждать помощи не приходилось. Просто денег не было у них почти ни у кого. Я не помню случая, чтобы кто-то из общежития нашего получал из дома перевод. Жили между собой дружно, и не было такого, чтобы кто-то на кого-то закричал, нагрубил. Никто не сквернословил, не курил (даже мальчишки), и, конечно, не выпивали. Одевались простенько, никто не завидовал друг другу, у нас ничего не пропадало, значит, никто не брал чужое. Воровства, как такового, у нас не было.
Молодость есть молодость, иногда бегали в городской сад весной, зимой в кино. Цены на билеты были дешевые, и можно было иногда позволить себе. У меня были двои тапочки, одни синие на резине с верхом из парусины, другие – белые. Тоже из парусины верх, низ – резина. Белые я начищала зубным порошком, а синие – синькой бельевой. Дали нам как-то по карточкам по 3 метра ситца. Я сшила себе кофту цветастую и юбку коричневую, в том и на занятия ходила, и на танцы.
Общежитие наше находилось недалеко от городского сада, где играл духовой оркестр. Тогда не было теперешней техники. Оркестр исполнял часто хорошую музыку, которая слышна была далеко. С тех пор я полюбила хорошую оркестровую, иногда классическую музыку, исполненную на духовых инструментах. Сейчас не услышишь ее ни по радио, ни по телевидению не увидишь, а жаль, ведь она человека настраивает только на хорошее, улучшает настроение, облагораживает душу, успокаивает нервы, придает лирическое настроение и хочется жить, творить, верить в хорошее будущее, любить и быть любимой даже в теперешние мои годы.
Так прошло мое детство, юность, и детство и юность моего поколения. По-разному складывалась жизнь и судьбы даже в нашей бывшей семье, но с уверенностью можно было сказать одно. Мое поколение воспитывалось в труде, уважении к старшему поколению, знали слово «надо». Честность во всем, дисциплина, добропорядочность, доверие. В книгах и кинофильмах призывали к добру, любви к Родине, патриотизму, любви к труду. Все это помогло нам одолеть такого врага, как фашизм, защитить Родину и самих себя от порабощения, не дать всех нас пропустить через крематорий. Честь и хвала оставшимся в живых защитникам Отечества нашего, царствия небесного погибшим за Родину. Не забывайте и тот вклад, что сделали мы и наши матери и деды, как во время войны, так и в послевоенное время. Кормили, как могли, сами оставаясь голодными. Не было воровства такого, как сейчас, не гибли люди от выстрелов из-за угла, не боялись выходить на улицу ни днем, ни ночью, боясь быть убитым из-за 100 рублей или просто так от руки наркомана и алкоголика или бандита-нелюдя, у которого ничего нет святого. Люди, одумайтесь, пока не поздно. Ведь все те несчастья, что порой обрушиваются на людей земли неспроста.
Господь посылает их нам, чтобы предупредить нас. Одумайтесь, эти катаклизмы на земле, как землетрясения, наводнения, ураганы, новые болезни, как то ВИЧ, гепатит бог допускает. Ведь эти болезни не случайны, они от разврата, наркомании. Мы без войны уничтожаем себя, наше молодое поколение гибнет, гибнут ничем неповинные дети, которые родились, а сколько еще неродившихся, загубленных в утробе матери своей. Ведь мы как последние палачи, которым нет прощения ни от людей, ни от бога, губим своих детей, живых существ. Ни одно животное существо животного мира не делает этого, только люди, считающие себя самыми здравомыслящими, позволяют себе это. А сколько детей, брошенных после рождения их от здоровых матерей, могущих воспитать и вырастить их, страдают от недостатка материнской ласки, воспитания отца, обманутых и обиженных взрослыми идут по жизни озлобленными и униженными и как сложится их жизнь. Не каждый человек может противостоять натиску более сильных, жадных, использующих все возможное, чтобы обогатиться за счет слабых или более порядочных, честных и работящих людей.
Почему более половины населения нашей страны сидят в квартирах с решетками на окнах, за железными несколькими дверями и даже это не спасает нас от нечистоплотных людей.
Раньше сидели в тюрьмах, за решетками воры, убийцы, бандиты разного рода, преступники. Сейчас все наоборот. Это мы смотрим на мир сквозь решетки, а бандиты, убийцы хозяйничают в стране, разъезжая на мерседесах. Покупают острова целые, стадионы, замки за границей. Что, они заработали такие деньги? Добрались до власти, разворовывают наши недра, леса, заводы целые. Кто их строил, заводы-то наши? Они? За те 10-15 лет, что воспользовавшись бесконтрольностью гос. чиновников сумели прибрать к рукам все, что было построено руками нашего и еще более старшего поколения. Ведь есть же предел какой-то человеческой алчности, наглости. Нельзя унести ничего в могилу с собой, там жизни нет. А жизнь сама по себе земная короткая, а детей и внуков там кто из алчных имеют. А если и есть у кого, то они от богатства своих отцов бесятся, наркоманят, спиваются, которые свой земной путь еще раньше своих отцов заканчивают бесславно.
Страшно становится жить нам, а еще страшнее за наших детей и внуков. Нет светлого будущего, уверенности в завтрашнем дне. Пишу, может, кто-то когда-то прочтет этот крик души моей и задумается о жизни своей, одуматься никогда не поздно. А бог простит наши грехи, если даже нам жить осталось всего ничего, а душа взывает о прощении. Делайте добро друг другу!
Простите меня, если кого обидела ненароком. Будьте счастливы.
Все это написала, не отходя от письменного стола, не ела, не пила, не могла оторваться. Если не я, то кто же? Ведь это уже было давно, история нашего поколения. Мало кто знает из молодых, а нас все становится меньше и меньше, и кто будет знать о жизни нашего поколения. Я написала только о детских и юношеских годах моей жизни, а сколько еще было всего, что пришлось прожить вместе с нашими людьми моего поколения. Это уже новая тема, о которой, вероятно, я никогда не напишу. Хотелось бы отослать это письмо в ЗОЖ, но оно такое длинное, и его, конечно, не напечатают, а больше куда, я не знаю. А ЗОЖ я читаю с его рождения и, вероятно, до своей могилы буду выписывать, так как в это издание пишут такие же простые люди и в основном пожилые и языком, понятным для меня. Обмениваются мыслями, советами, проблемами со здоровьем и лечением.
Если заинтересует кого-то мое откровение, правда жизни тех времен, я пока могу мыслить и писать, могу продолжить, как сложилась в частности моя дальнейшая жизнь. Несмотря на некоторые негативные стороны жизни в разные периоды жизни нашей страны, моей Родины. Я люблю свою Россию, ее народ, простой, мудрый, долготерпеливый, мужественный, патриотический, щедрый на доброту, любовь.
Отрицательно отношусь к тем, кто покидает свою Родину, только надеясь на большие деньги за границей и райскую жизнь там. Надо стараться жить здесь так, чтобы рай-то был на своей родине. Надеюсь, что молодежь здесь рано или поздно поймет это, ведь будущее в их руках! Надеюсь, что наши труды были не напрасны и оценены достойно.
Можно похвалиться?
Я за труды мои имею 8 наград (медалей) в том числе за доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», из них 3 еще СССР, а 4 уже Российские.
Из воспоминаний Павлы Григорьевны Зыковой. Написаны собственноручно.
Без редакторских правок.
Без редакторских правок.